|
Читальный зал
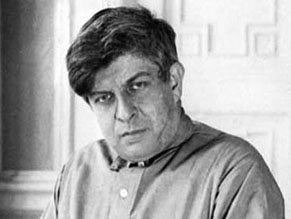
Эдуард Багрицкий, около 1920 года
|
Ангел смерти в кожаной тужурке
06.11.2012 «Но это такая трудная жизнь – родиться в затхлой мещанской квартире, читать Кузмина, писать газеллы о «гашише в тиши вечерних комнат», чувствовать в себе дар, то есть мечтать о славе, а затем, отказавшись от всего, увидеть новое значение вещей. Может быть, Эдуард Багрицкий – наиболее совершенный пример того, как интеллигент приходит своими путями к коммунизму…»
Так писал Юрий Олеша о свояке (они были женаты на сестрах Суок). Олеша, конечно, несколько пережимал: путь Багрицкого от газелл о гашише к коммунизму (к поэмам о чекистах и т.п.) не был уж столь трудным.
Аметистовые уклоны
Тихий неуклюжий еврейский мальчик, сын владельца лавочки на Ремесленной улице в Одессе, испытывал глубокое отвращение к математике и ненавидел медицину. Он никак не хотел соответствовать планам родителей – «типичных представителей еврейской мелкой буржуазии», как Багрицкий будет писать в автобиографиях советского периода. «…Их мечтой было сделать из меня инженера, в худшем случае доктора или юриста». Единственные предметы, по которым он успевал в реальном училище, – это история, русский язык, литература. После училища он окончил курсы землемеров – и забыл все, чему там учили.
Он любил Стивенсона и «Слово о полку Игореве». Из поэтов, помимо Кузмина, любимыми были Северянин и (особенно) Гумилев. Участвовал в литературном кружке, тогда это было очень модно: Одеса пребывала в состоянии литературной экзальтации.
Кружок носил претенциозное (в духе времени) название «Аметистовые уклоны». На деньги тянувшегося к «высокому» сына банкира издавались изысканные альманахи: «Серебряные струны» и «Шелковые фонари», «Авто в облаках» и «Чудо в пустыне». И совсем уж таинственная «Смутная алчба». Простая еврейская фамилия Дзюбин мало подходила ко всей этой красоте, и поэт (атлетического сложения, со шрамом на щеке) выступал под псевдонимами. Один из них – Нина Воскресенская – представляет интерес разве что для досужего психоаналитика. Псевдоним Багрицкий точно попал в историко-литературную лузу.
До революции (1914–1917) Багрицкий работал преимущественно в реквизитной, романтически-экзотической стилистике (так, уже в 1970-х, будет писать Булат Окуджава). Обычные слова и вещи казались ему «чуждыми поэтическому лексикону – они звучали фальшиво и ненужно». Зато кстати пришлись кобольды да эльфы, «маг в колпаке зеленом» да «восковая пастушка». И «в аллее голубой, где в серебре тумана прозрачен чайных роз тягучий аромат…». И «в таверне «Синий бриг» усталый шкипер Пит…».
В стихах сразу же проявились и музыкальный напор, и наступательная энергия, и заводящий (почти бальмонтовский) раскат:
Нам с башен рыдали церковные звоны,
Для нас поднимали узорчатый флаг,
А мы заряжали, смеясь, мушкетоны
И воздух чертили ударами шпаг.
Именно эти строки с удовольствием цитирует знающий толк в поэзии Валентин Катаев в своем «Алмазном венце».
Современники говорят, что Багрицкий великолепно читал стихи – свои и чужие. Читал в литературных салонах (были такие в Одессе), читал в парках с эстрады, читал с чьего-нибудь балкона…
Но тут случилась Февральская революция, и Багрицкий, вместе с такими же эстетствующими юношами, помчал по полицейским участкам – прессовать городовых! «Нам, мечтающим об оружии, сразу досталось оно в неограниченном количестве, – вспоминал поэт в 1930-е годы. – Почти все мои друзья перестреляли друг друга от неумения обращаться с ним. Я прострелил себе только левую ладонь…»
Если бы не революция, в его поэзии (и жизни), скорее всего, ничего бы не изменилось – может быть, кроме некоторых сдвигов в метрике стиха. Революция заставила его отречься от того, чему он поклонялся, и написать «о черном предательстве Гумилева». Но революция сделала из него поэта – сильного и страшного.
Революция и еврейский вопрос
Самое темное место в биографии Багрицкого – его участие в 1917 году в персидской экспедиции генерала Баратова, впоследствии представителя Деникина в Закавказье. Как Багрицкий туда попал, сказать трудно. Но так или иначе местечковое («мелкобуржуазное») еврейское воспитание и эстетские замашки не помешали ему чувствовать себя своим среди казаков. А в 1919 году он уже поступает в пропагандистский отдел Красной армии и с азартом занимается сочинением агиток. Потом он скажет странную вещь: «Понимать стихи меня научила РОСТА». Возможно, подразумевая, что вечерами он, как и прежде, писал о всяких экзотических предметах: о Фландрии, о ландскнехтах, о «Летучем голландце» и т.п. Кроме того, в духе наступившего времени было отношение к поэзии как к глобальному агитпропу, включая Пушкина – «поэт походного политотдела, ты с нами отдыхаешь у костра» (вспоминается Александр Еременко: «Я пил с Мандельштамом на Курской дуге…»).
Опыт Гражданской войны, в значительной мере воспринятой как еврейский погром, пойдет в дело потом, в «Думе про Опанаса» (1926):
Опанас глядит картиной,
В папахе косматой,
Шуба мертвого раввина
Под Гомелем снята /…/
Полетишь дорогой чистой,
Залетишь в ворота,
Бить жидов и коммунистов –
Легкая работа!
Сам поэт объяснял поэму по-конструктивистски красиво: «Опанас» был написан из-за синкоп, врывающихся, как махновские тачанки, в регулярную армию строк». (Любопытные результаты может, кстати, принести сравнение «Опанаса» со «Страной негодяев»(1923) Есенина, которая тоже посвящена Нестору Махно и тоже затрагивает еврейский вопрос, но с другой стороны.)
На самом деле Багрицкий все время пытался если не порвать со своим еврейством, то хотя бы посмотреть на него с некой брезгливо-отстраненной дистанции. Выходило натуралистично и жутковато: «Любовь? / Но съеденные вшами косы; / Ключица, выпирающая косо; / Прыщи; обмазанный селедкой рот / Да лошадиной шеи поворот. / Родители? / Но, в сумраке старея, / Горбаты, узловаты и дики, / В меня кидают ржавые евреи / обросшие щетиной кулаки…» («Происхождение», 1930).
Впрочем, в поэме «Февраль» (1934) ее герой, помощник комиссара, находит другие способы самоутверждения:
Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая до отказа...
Я много дал бы, чтоб мой пращур
В длиннополом халате и лисьей шапке,
Из-под которых седой спиралью
Спадали пейсы и перхоть тучей
Взлетает над бородой квадратной...
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне
Над летящими фарами и штыками
Грузовика, потрясшего полночь.
Я появлялся, как ангел смерти,
С фонарем и револьвером, окруженный
Четырьмя матросами с броненосца...
Во время обыска в бандитском логове этот ангел смерти в кожаной тужурке насилует девушку, которая некогда его отвергла, а теперь стала проституткой:
Не стянув сапог, не сняв кобуры,
Не расстегнув гимнастерки.
Я беру тебя за то, что робок
Был мой век, за то, что я застенчив,
За позор моих бездомных предков,
За случайной птицы щебетанье!
Я беру тебя как мщенье миру,
Из которого не мог я выйти!
«Ведь это со мною так и происходило, как я пишу, – и гимназистка эта, и обыск. Я тут совсем немного приврал…» – говорил Багрицкий потом. Приврал он насчет изнасилования, которое в жизни не получилось, из-за застенчивости…
Да, смерть!
В 1925-м Багрицкий переехал в Москву. («Я и глазом не успел моргнуть, как имя птицелова громко прозвучало на московском Парнасе», – пишет Катаев, который, собственно, и устроил другу Москву.)
Если бы не астма, то послереволюционная жизнь была бы для Багрицкого просто малиной. «Аметистовые уклоны» он с легкостью сменил на ЛЦК (Литературный центр конструктивистов), а потом на РАПП. На место креолов, кобольдов, эльфов и прочей сказочной нечисти аккуратно встали «механики, чекисты, рыбоводы» и не менее романтические контрабандисты. (Ехидный Катаев утверждал, что, вопреки легенде, возникшей благодаря стихотворению «Контрабандисты» (1927), Багрицкий «ужасно боялся моря и старался не подходить к нему ближе чем на двадцать шагов».)
На место исторически яркой личности Суворова из ранних (1915) стихов заступил сам Феликс Эдмундович Дзержинский: в поэмке «ТВС» (1929) он запросто заглядывает к поэту в гости – потолковать.
В «ТВС» – те самые строки, которые когда-то возмутили Станислава Куняева. Это и в самом деле жутко звучащее революционно-чекистское кредо, изложенное Дзержинским:
А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой,
Иди и не бойся с ним вровень встать.
Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься – а вокруг враги;
Руку протянешь – и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги» – солги.
Но если он скажет: «Убей» – убей.
Ст. Куняев увидел здесь апологию аморализма и презрение к человеческой жизни и точно подметил натуралистическую – «со знанием дела» – струю. Евгений Евтушенко (в «Строфах века») встал на защиту Багрицкого: «…нельзя выдавать эти строки, написанные в 29-м году, видимо, во время депрессии (или очередного припадка астмы, от которой поэт и умер), за философское кредо всей его поэзии…» Трогательно, конечно, но неубедительно.
Лучшие – самые громкие и звонкие – стихи Багрицкого писались (как и рассказы Бабеля) под знаком того времени, когда жизни человеческой цена была копейка. Для него это было в порядке вещей и даже желанно. Не просто так он выкрикнул в «Контрабандистах»: «Чтоб звездами сыпалась кровь человечья…»
По-своему замечательна поэма «Последняя ночь» (1932), посвященная студенту Принципу, убийце эрцгерцога Фердинанда в 1914 году: «Быть может, он скажет мне, / О чем мечтать и в кого стрелять, / Что думать и говорить?..» – надеется лирический герой поэмы.
Но надо признать, что романтику убийства и смерти Багрицкий чеканил в великолепные строки:
Возникай содружество
Ворона с бойцом, –
Укрепляйся мужество
Сталью и свинцом.
Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.
Песня из поэмы «Смерть пионерки» (1932)
А в какую нечеловеческую музыку выливалась его изощренная некрофилия!
Их нежные кости сосала грязь.
Над ними захлопывались рвы.
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы…
Современные поэту критики, правда, считали, что его стихи «проникнуты напряженной, физиологически ярко выраженной жизнерадостностью, жадностью к жизни». Представляется, что верно здесь сказано только о физиологизме Багрицкого. Он был физиологичен не только в стихах, но даже в теоретических построениях: «В стиле не может быть мертвых клеток. Аппендицит абсолютно невозможен. Стихотворение рождается без слепой кишки…» Так что его детское отвращение к медицине, судя по всему, было с годами преодолено.
Поэт, дети и рыбы
Поэма «Смерть пионерки» (1932) – самое известное сочинение Багрицкого (наряду с «Контрабандистами»). Историю про девочку Валю, которая, умирая от скарлатины, отвергает свой крестильный крест и прощается с жизнью пионерским салютом, поэт взял из жизни. Нечто подобное произошло в семье, у которой он снимал квартиру в Кунцеве. Поэме предшествовало менее музыкальное сочинение «Человек из предместья», в нем Багрицкий разоблачал главу этой семьи как «мелкого собственника, у которого и так всего много, а хочется еще больше». Но и в «Смерти пионерки» он лихо связывает веру в Бога со стяжательством. «Я ль не собирала / Для тебя добро? Шелковые платья, / Мех да серебро» – так мать уговаривает несчастную девочку взять крест. Все это каким-то образом превращается в боевую песню: «Нас водила молодость / В сабельный поход…» Вышло диковато, но очень талантливо.
Из-за прогремевшей «Смерти пионерки» Багрицкий стал считаться чуть ли не детским поэтом. Он много общался с детишками, к которым, строго говоря, его вообще нельзя было подпускать. На встречах с подрастающей сменой он добросовестно объяснял: «И вот я написал «Смерть пионерки» – в виде сказки…» (Хороша сказочка!) «…Грозу в стихотворения я ввел для того, чтобы… Тогда я ввел туда песню…» И т.д.
(Благодаря поэме девочке Вале в 1961 году был выписан посмертно комсомольский билет. Тогда же мать поставила на ее могиле крест. Аминь!)
В Одессе Багрицкий держал в клетках птичек и играл роль беззаботного птицелова. В Москве, наоборот, в аквариумах разводил рыбок и говорил: «Я ихтиолог, и это одно из основных моих занятий». Ихтиолог не ихтиолог, но рыбные темы в стихах возникали постоянно. В цикле «Победители» (1932) (содержание которого резко навзничь опрокидывает его название), кроме странноватых стихов про ветеринара, Дзержинского и веселых нищих, можно обнаружить романс карпу, оду рыбоводу и малоприятные (опять же натуралистические) стансы об икре…
А «Смерть пионерки» (1932) оказалась в загадочных, но безусловных связях с написанным на пять лет раньше «Карасем» (1927) Николая Олейникова. У Багрицкого: «Валя, Валентина, / Что с тобой теперь? / Белая палата. / Крашеная дверь…» У Олейникова: «Жареная рыбка, / Дорогой карась, / Где ж ваша улыбка, / Что была вчерась?...»
У Багрицкого: «Боевые лошади / Уносили нас, / На широкой площади / Убивали нас». У Олейникова: «Карасихи-дамочки / Обожали вас – / Чешую, да ямочки, / Да ваш рыбий глаз…». И так далее, имея еще в виду олейниковское: «Помню вас ребенком, / Хохотали вы…»
Версий на этот счет несколько. Самая убедительная: Багрицкий вольно или невольно воспроизвел метрику стихотворения Олейникова и поставил на место трагикомического сюжета трагический (см.: Елена Михайлик. «Карась» глазами рыбовода // НЛО. 2007. № 87).
Последний привет романтика
«Багрицкий столько рассказывал о себе удивительных небылиц, они в конце концов так крепко срослись с его жизнью, что порой невозможно распознать, где истина, а где легенда… Он напоминал то ленивого матроса с херсонского дубка, то одесского «пацана»-птицелова, то забубенного бойца из отряда Котовского, то Тиля Уленшпигеля», – вспоминал Константин Паустовский. Романтика как таковая влекла Багрицкого бесконечно, независимо от содержания. Обычная жизнь ему казалась пресной и ненастоящей, как и обычные слова.
Он умер от воспаления легких 16 февраля 1934 года... Жизнь закончилась в тех красочных декорациях, которые он всегда любил как романтик, – гроб с его телом сопровождал эскадрон кавалеристов. Было торжественно и красиво. «Первая могила нашего поколения», – рыдал Олеша на Новодевичьем (он попросит, чтобы его положили к другу и свояку: вроде бы они так лежат, в одной могиле).
Счастье Багрицкого, что он умер в 1934-м, а то посадили бы, как посадили в 1937-м его вдову, Лидию Суок (она мужественно протестовала против ареста поэта Владимира Нарбута). Или же – более вероятный вариант – совсем бы скурвился (как, например, Николай Тихонов).
Эманация поэтической энергии еще долго исходила от этой зловеще-привлекательной фигуры. Так, имя Эдуард, которое в честь Багрицкого родители дали младенцу Савенко в 1943 году, в конце концов сказалось на национал-большевике Эдуарде Лимонове, выбравшем себе слоган «Да, смерть!».
Всеволод Емелин, чутко улавливающий идеологию в музыке стиха, перепел «Смерть пионерки» в «Балладе о молодом скинхеде»: «…Страх зрачки не сузит. Нас бросала кровь / На шатры арбузников, на щиты ментов. / Но полковник-сука отдавал приказ, / И ОМОН всей кучею налетал на нас».
Но не это главное
Как-то Бахыт Кенжеев, с той впечатляющей силой, с которой только один поэт может читать стихи другого, читал:
Мы – ржавые листья
На ржавых дубах…
Чуть ветер,
Чуть север –
И мы облетаем.
Чей путь мы собою теперь устилаем?
Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?
Потопчут ли нас трубачи молодые?
Взойдут ли над нами созвездья чужие?
Мы – ржавых дубов облетевший уют…
Бездомною стужей уют раздуваем…
Мы в ночь улетаем!
Мы в ночь улетаем!
Как спелые звезды, летим наугад…
И добавил с такой же силой: «Фашист, конечно! Но какой поэт!»
Виктория Шохина
chaskor.ru
Наверх
|
|
